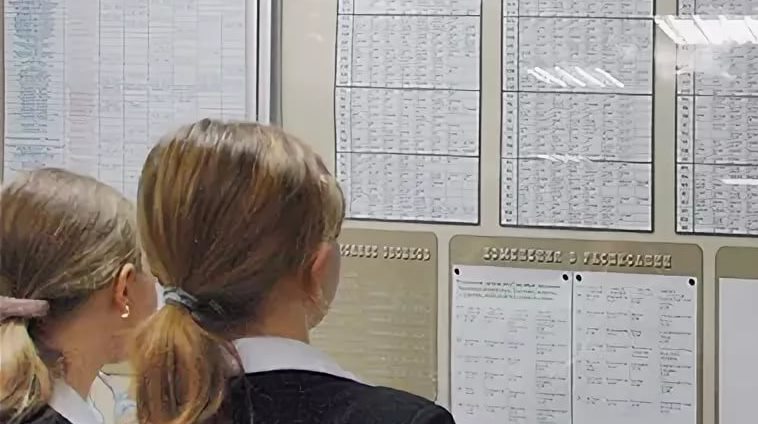ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ЭПОХИ
(ГОД БЕЗ РАСУЛА)
Год без Расула Гамзатова… Как странно и горько звучат эти слова. Мы все так привыкли к тому, что Гамзатов рядом, среди нас, и даже помыслить не могли, что он однажды уйдет навсегда.
Расул был глыбой, блистающей вершиной, нашим духовным оберегом, непреодолимой преградой для всех тех, кто хотел покуситься на духовность и человечность. Он и его творчество стали спасительным островом в океане ненависти и злобы, волны которого захлестнули наше время. За его целебное поэтическое слово мы хватались, как за соломинку, чтобы нас не затянуло в безумный водоворот бушующих и враждебных волн.
В его творчестве как будто бы слились несколько поэтических стихий — лирика, эпос и философские раздумья о времени и о себе. Масштабность его мировосприятия поражала современников и еще будет поражать потомков. Горский мальчик из маленького аварского селения Цада с его каменистого плато увидел огромный мир, который поместил в свою поэзию. Он с самого раннего возраста ощущал ответственность за все, что происходит на планете, чутко реагировал на все мировые события, при этом никогда не забывая своих глубинных корней.
Ритм его сердца всегда совпадал с ритмом сердцебиения планеты, и это сделало его поэтом поистине всемирного значения. С юности воспринявший традиции Маяковского, Гамзатов с одной стороны тяготел к гражданской, трибунной поэзии, с другой был по пушкински лиричен и энциклопедичен. Горячие точки планеты стали болевыми точками его поэзии, и это было не данью времени, а внутренней потребностью поэта, любившего повторять слова великого Гейне, что трещина, расколовшая мир, проходит через сердце поэта. Но он никогда не был поэтом календарным, ибо его интерес к тому, что происходило на всей земле не был искусственным, он был неотделим от серьезного и глубокого осмысления каждого отдельного события, о котором ему доводилось писать.
Его поэтическая палитра невероятно богата. За его тонким лиризмом скрывается ранимость и незащищенность души. Он всегда естественен, всегда открыт своему читателю, которому доверяет все свои глубинные переживания. Гамзатов никогда не играет, он всегда таков, каков есть на самом деле, и эта искренность подкупает своей естественностью и непринужденностью.
В советскую эпоху Гамзатов был одним из самых ярких, самых самобытных поэтов, входя в первую десятку, а, может быть, даже и в пятерку лучших.
В стране, в которой была жесткая субординация власти, Поэту, и самому имевшему прямое отношение к этой власти, удавалось оставаться самим собой и говорить то, что другим не позволялось. Его распахнутая жизнь, его любовь к дружеским застольям были притчей во языцех. Общение со многими людьми было для него насущной необходимостью. Его жизненным девизом было: «Ни дня без строчки и ни дня без людей!», но при этом он мог сосредоточиться и работать в самых невероятных условиях.
Гамзатов, из которого очень многие хотели сделать ортодоксального коммуниста, всегда очень иронично относился к разным партийным заседаниям и конгрессам. Будучи человеком умудренным, он понимал, что плетью обуха не перешибить, но, как живой человек всегда подтрунивал над чиновничьим пафосом иных поэтов. Его нельзя была загнать в строй и выровнять в шеренгу. Он всегда бы выделялся в любом строю и в любой шеренге.
Он был масштабен во всем — в стихах, в дружбе, в любви. Он всегда чувствовал ответственность перед собственным словом, но особенно это чувство ответственности возросло в смутное время России. Он не стеснялся советоваться со многими, независимо от возраста и профессий, проверял их реакцию на свои стихи. Он был очень проницательным и наблюдательным человеком, для него не было мелочей ни в жизни, ни в творчестве — все сущее было предметом его поэзии. Склонный к самоанализу, он иногда боялся, что стихи его будут непонятыми.
Поэт умел одинаково искренне сопереживать и всей планете и одному-единственному человеку и никогда не забывал выражать соболезнования не только близким друзьям, но и просто знакомым людям, не смотря при этом на их чины и звания. Теперь, когда его не стало многие гордятся, что он звонил им каждое утро, чтобы просто расспросить о делах. И мне он тоже звонил, и тому, и другому… Он понимал, что уходит и хотел слышать наши голоса. Ему нас всех не хватало, как нам теперь не хватает его.
Он всегда трезво оценивал себя самого и свое творчество, очень взвешенно относился к своим выступлениям, часто сомневался, чувствовал своих промахи, а удачам радовался, как ребенок. И дом его, под стать ему самому, был также распахнут для всех, как и рабочий кабинет, который как бы становился продолжением его гостеприимного дома.
В 60—70 годах, когда мир жаждал поэтического слова, его поэзия совпала со временем. На его творческие вечера шли когда-то, как сегодня идут на футбол. На огромных стадионах и в необъятных Дворцах спорта яблоку негде было упасть, когда там выступал Гамзатов. Это, конечно, объяснялось прежде всего необыкновенной популярностью поэтического слова, которого тогда жаждала страна и которое не было спущено свыше.
К нему благоволила власть, его любили очень многие читатели в нашей стране и любят до сих пор. Он был блестящим и остроумным оратором. Даже его жесты были содержательнее иных речей. У него была блестящая память до самого конца. Он любил говорить, но и любил слушать жадно, вбирая всегда самое ценное и сам высоко ценил меткое словцо у других.
Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Его друзьями были Симонов, Твардовский, Кулиев, Айтматов, Кугультинов, Карим, Луконин, Евтушенко, Рождественский — писатели и поэты, казалось бы непохожие друг на друга и часто не общавшиеся с друг другом. Но всех их объединяла любовь к нему, к его редчайшему дару поэта и человека.
Расул умел соединять людей самых разных возрастов и профессий. Люди, встретившиеся впервые в его доме, потом становились друзьями. Застолье в доме Гамзатова было как бы сопровождением к его искрометному творчеству, его горской философии. Он всегда читал свои новые стихи, говорил о своих новых творческих планах. Гамзатов не терялся ни в какой ситуации, остроумие его было гениальным. Его неожиданный, чисто гамзатовский юмор, был его визитной карточкой. С ним всегда было легко, потому что, умея шутить, он сам ценил шутку и находчивость.
С ним люди разных возрастов чувствовали себя ровесниками, люди разных национальностей — земляками. Когда он читал стихи в них ощущался внутренний накал, который порой доходил до предела. Он любил подшучивать над другими, но это почти всегда было безобидно, ибо прежде всего он подшучивал над самим собой.
Для многих он был живой легендой поэзии. Он искренне любил людей, всяких — необыкновенных и самых простых и обычных. Ему все было интересно.
Гамзатов был поэтом великой державы, чем всегда гордился, никогда не предавая этого звания. Гибель державы, в которой он жил и творил, резко подточила его здоровье. Он мучительно переживал все, что происходит в стране. Человек искренний и распахнутый, он молчал несколько лет, живя почти безвыездно. Он всегда хотел противопоставить любовь ненависти и особенно в последние годы.
Перестройку он принял как долгожданную перемену, радостно по-детски, потому что очень устал от фальши, участником которой приходилось быть и ему самому. Но он был разочарован тем, что случилось потом, не желая принимать участие в этой вакханалии. Когда трещала и рассыпалась его огромная страна, он, как многим казалось, безмолвствовал, не пел хвалебные панегирики горе-реформаторам и это не понравилось тогдашней власти. Его не печатали в Москве, как, впрочем, и других больших поэтов. Но в своих последних стихах он отразил не только собственное разочарование, но и разочарование всей страны:
Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время и пространство…
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства.
Оттачивает свой имперский клюв,
Поглядывая в зеркало кривое…
Посредственность, тебя я не люблю,
Но и вражды своей не удостою.
(здесь и далее перевод с аварского М. Ахмедовой-Колюбакиной)
У многих в 90-е годы минувшего века произошел слом всего мировоззрения, но не у Гамзатова, ибо он понимал, что никакая государственная система не может быть безупречной, хотя и должна неуклонно к этому стремиться. Он был мудрец, всепонимающий, но принимающий слишком близко к сердцу боли и болезни своего времени. Вся страна меняла свои убеждения, ведь перемены происходящие в ней коснулись абсолютно всех.
Ему было трудно признаться в собственных заблуждениях, было больно прозревать изо дня в день. Но Гамзатов был беспощаден к себе в своих последних стихах. Эта беспощадность просматривается даже в названиях некоторых из них — «Суд», «Суд идет», «Покаяние», «Завещание», «Одиночество» и т. д. Он все время искал и находил в себе силы признаться в собственных ошибках. То, что некоторые его оппоненты считали приспособленчеством, было честным отношением к самому себе. Только совестливый человек способен на истинное покаяние, на сомнения, а самомнение для напыщенных болванов. Многие его стихи последних лет похожи на молитвы. Вообще вся его поэзия — это поиск Бога, недаром, он, считавший себя великим грешником (хотя кто столько делал ежедневного добра людям), надеялся на скромное местечко между адом и раем:
Он спросит: — Эпоха зашла, как звезда,
В каком из грехов ты бы ей повинился?
— Лишь в том, что политиком был иногда,
Хотя на земле я поэтом родился.
Но прежде, чем суд мою участь решит,
Всевидящим оком всю жизнь озирая,
Всевышнего я попрошу от души
Найти мне местечко меж адом и раем.
Великое чувство недовольства собой было рефреном всей его поэтической и человеческой жизни. Вслед за Эффенди Капиевым он боролся за творческую зрелость и не выпрашивал для себя никаких скидок. Он чувствовал, что смерть подступает и мужественно не сдавался ей на милость. Это его мужество поражало многих, его жизнелюбие (во что бы то ни стало!) восхищало. Он всегда много работавший, рано начал подводить итоги и вдруг понял, что не сказал самого главного и пытался успеть это наверстать. У него не было революционного романтизма, как у его друга Роберта Рождественского, как горец он изначально, на генетическом уровне, был осторожнее и дальновиднее многих своих сверстников. Но и он, как многие из его поколения, в своих первых стихах переболел юношеской революционностью и патриотичностью, чего никогда не скрывал и не стеснялся. Его пугало беспамятство идущего на смену поколения, которое отрицало литературные судьбы и творческие поиски таких, как он. Гамзатов очень тонко ощущал этот надвигающийся хаос, но не столько страшился его, сколько пытался понять.
Он был слишком мудрым и разумным для этого безумного времени. Будучи одним из самых талантливых представителей своей эпохи, он стал ее последним солдатом:
Совсем один, как доблестный солдат,
Что чудом уцелел из всей пехоты,
Из окруженья выйдя наугад,
Попал в непроходимое болото.
Совсем один, как раненый журавль,
В недобрый час отбившийся от стаи…
Уже давно на юг ему пора,
Да крылья перебитые устали.
Он искал Бога в прошлом своего народа, в его настоящем и будущем. В нынешней идеологической вакханалии, в противоборстве всевозможных религий и верований, партий и партишек, его единственной верой был родной Дагестан. И более всего на свете он боялся разувериться именно в нем:
На мой Дагестан я с тоскою гляжу,
Он скорчился, как от ожога,
До боли знакомого не нахожу,
Так много в нем стало чужого.
Не мой у него звучало, как немой. Ведь Дагестан на протяжении всей его сознательной творческой жизни был основной его религией, его паролем и отзывом. Но базис, на котором держались все его духовные ценности, рухнул, и он судорожно хватался за корень, намертво вросший в его родные горы. Горькие вопросы Поэта к новому, надвинувшемуся, как неизбежность, тысячелетию, так и остались без ответа. Эпоха отпечаталась в его творчестве, как след железной подковы на камне.
Но кто сказал, что другая эпоха будет лучше?..
Он быстро избавился от иллюзий, гораздо быстрее, чем некоторые поэты-шестидесятники: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, вслед за ним воспевавшие коммунистические идеалы и вслед за ним разочаровавшиеся в них. Но разочаровавшись, он не смеялся над своими заблуждениями, не юродствовал, не проклинал прошлое, которое он любил таким, как есть. Недаром строчки «суди меня по кодексу любви» были самыми его любимыми, ибо все, что он делал, он измерял только любовью. И юношеские заблуждения тоже. Он не стал судьей и разоблачителем ни своего прошлого, ни настоящего, он судил только себя за то, что был слишком легковерным, и часто плыл по течению времени:
Я разным был, как время было разным –
Как угол, острым, гладким, как овал…
И все же никогда холодный разум
Огня души моей не затмевал.
и дальше:
Ты прости меня, время безумное,
Что и мне не хватало ума…
За меня чьи-то головы думали,
Мои строчки прессуя в тома.
И шайтанская сила незримая
По бумаге водила порой
Мою руку неисповедимую,
Искривляя прямое перо.
Порой о своих заблуждениях он писал с издевкой, порой с горечью, но ничего и никогда не скрывал. Нет, Гамзатов не просил для себя смягчающих приговоров, ибо знал, что как Поэт он в ответе не только за собственные ошибки, но и за ошибки тех, кому он поверил.
Его последние стихи пронизаны болью, которую он не может превозмочь. Его прозрение стало его долгим прощанием со своей страной, со своими читателями, с Патимат, которая ушла внезапно и этим еще более обнажила нерв его одиночества. Гамзатов был однолюбом, рыцарем, патиматиком. При всей его кажущейся влюбчивости он был по-настоящему влюблен только в свою Патимат. Он был предан ей одной, потому и внезапную потерю ее пережил так тяжело:
И любовь моя с клином усталым
Улетела уже навсегда,
В глубине мирозданья пропала,
Как упавшая с неба звезда.
Казалось, что все чувства его обострились. Его мощный талант не боялся тематических повторов, ибо он знал — и его прозрение, и даже его повторы индивидуальны. Он сомневался во многих своих строках. Но его последние стихи по своему воздействию на читателей (а это видно по реакции людей на многих встречах), обладают мощной, ни с чем не сравнимой эмоциональной энергетикой. Его исповедальность подкупает и обескураживает. Его новые журавли рыдают навзрыд. В своих последних стихах он как бы избавляется от всего наносного, ненужного. Его строки, словно исторгаются из самых заповедных глубин его души.
В нем в последние годы боролась надежда с безнадежностью. Но Поэт не цеплялся за жизнь, он просто не хотел ее терять, как любимую женщину, любимую до самозабвения. И в этом была какая-то трагичность. Его последняя книга, которую еще не увидел читатель, может быть, будет самой глубокой, самой пронзительной и самой беспощадной по силе поэтического откровения. Он все время хотел написать самое главное стихотворение в своей жизни, и ему казалось, что это должно быть последнее стихотворение. Его вообще очень интересовали последние стихи тех поэтов, которых он любил, потому что он считал, что именно в них закодировано нечто самое-самое. Он замечательно читал свои стихи, и это не было актерством, просто они шли из глубины его пламенной натуры, страстно и факельно. Вообще образ факела был любимым его образом, ведь он и сам был факелом, рассеивающим тьму.
Критики его поэзии часто обвиняют его в предательстве своих убеждений. Но это не так. Расул менялся вместе со временем, которое меняло его отношение к жизни и творчеству, но в главном он всегда оставался верен себе:
О, время, — ты — флюгер… По воле ветров
На запад восток променяешь мгновенно.
Но век мой прошел, и хоть был он суров,
Моей никогда не увидит измены.
Он не вымарывал из своего творчества страниц, даже если эти страницы были черновыми.
Его «Журавли» стали одной из самых Великих песен ХХ века. Эта песня преклоняется перед памятью всех погибших и предостерегает человечество от новых войн. А тема неоплатного долга в его журавлях звучит и в новых его стихотворениях:
Когда уйду от вас дорогой дальней
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне.
Горло перехватывает от этих щемящих интонаций. Порой он сам сомневался в своем творчестве, но теперь уже в нем никто не усомнится. Он раньше многих понял лживость политической системы, в которой ему довелось жить, но среди этой всеобщей лживости он отыскал свои спасительные островки — отец и мать, любовь и дружба, семья и дети — по которым он шел к истине. Только вечные ценности хранил он и защищал, только их боялся утратить. Его дар предвиденья поражает. Ведь задолго до Бесланской трагедии он написал воистину пророческое стихотворение «Берегите детей»:
Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути,
Каждый миг: «Берегите детей!».
Всех, творящих намазы, прошу об одном —
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»
Он любил делиться своими творческими планами и замыслами, часто советовался, не обращая внимания на возраст собеседника. Умный совет он всегда ценил, над глупостью благодушно подтрунивал. Кто-то считал его правительственным поэтом. Но он никогда не фальшивил: ни тогда, когда в годы войны писал о Сталине, ни тогда, когда молчал о Ельцине… Он свято верил только в Родину и доверял только ей, а когда разуверился, с головой ушел в историю, стал писать аварские сказания, легенды, притчи. Он не был ни романтиком, ни идеалистом. Ярлык придворного поэта, который пытались навесить на него, никак не соотносился с его образом. Он метался вместе со страной, пытаясь угадать ее путь, и очень много работал. Это был уже другой Гамзатов — трагичный, философский. Он еще много успел написать на родном аварском языке. Но наследие это пока недоступно широкому читателю. Из вновь написанного он многое хотел переделать, переосмыслить, дописать. Не случилось. Всевышний дал ему всего месяц, чтобы проститься с жизнью, которую он так любил, с друзьями, с коллегами, с семьей и с Москвой, где он прожил лучшие свои годы. Он не противопоставлял себя новому времени, но и не хотел вписываться в него. Он шел своим путем, который был невероятно труден. Он не отрекался от ранних стихов, просто пытался их переосмыслить, переосмыслить самого себя, свое тогдашнее мировоззрение.
В начале девяностых он оказался, как и вся литература на обочине, без гонораров с нищенской пенсией и мизерной зарплатой. Именно поэтому он ушел в себя. И в то же время рьяно защищал писательские интересы. Он всегда считал, что писательство — это цвет нации, и власть, которая об этом забывает, обречена:
Словно шерстью чёсаной, туманом
Затянуло призрачную даль –
Наступило время шарлатанов
И заполонило магистраль.
Слух мой режет пар колесных скрежет,
И вагоны старые скрипят,
И на полустанках здесь все реже
Фонари сигнальные горят.
Что же ждет меня за поворотом,
Ожидает что мою страну?..
Время, вот и стало ты банкротом,
Снова у безвременья в плену.
Сколько себя помню (примерно с трехлетнего возраста, когда я впервые членораздельно смог произнести его имя и фамилию, хотя и неправильно: — Расул Газматов), он всегда был центром писательской вселенной Дагестана, о нем говорили все и всюду, его цитировали, читали, ругали и хвалили, но к нему никогда не были равнодушны. Последние семь лет его жизни мне посчастливилось много работать с ним, быть его помощником и собеседником. Он любил шутить: «Не знаю, как я тебе, а ты мне очень нравишься». Как бы я хотел сказать ему то же самое сейчас. Увы…
Он любил молодых, потому что и сам до конца был молод. У него никогда не было менторского тона, он не поучал, а жадно тянулся к новому, незнакомому. Меня всегда в нем это поражало. Когда я принес ему его восьмитомник, только что составленный и записанный на маленький лазерный диск, он, как ребенок, долго удивлялся, что на этой серебристой пластиночке уместился труд всей его жизни. Это его восхищало и пугало одновременно.
Он был так важен, так необходим в этой жизни. А без него мир стал иным, он сузился, как шагреневая кожа.
Расул Гамзатов покоится там, где хотел — на склоне Тарки-Тау, видя весь город, который он любил, и море, которое воспел, как Пушкин. К нему не зарастает тропа и он, как и прежде, не одинок.
Мурад АХМЕДОВ
(ГОД БЕЗ РАСУЛА)
Год без Расула Гамзатова… Как странно и горько звучат эти слова. Мы все так привыкли к тому, что Гамзатов рядом, среди нас, и даже помыслить не могли, что он однажды уйдет навсегда.
Расул был глыбой, блистающей вершиной, нашим духовным оберегом, непреодолимой преградой для всех тех, кто хотел покуситься на духовность и человечность. Он и его творчество стали спасительным островом в океане ненависти и злобы, волны которого захлестнули наше время. За его целебное поэтическое слово мы хватались, как за соломинку, чтобы нас не затянуло в безумный водоворот бушующих и враждебных волн.
В его творчестве как будто бы слились несколько поэтических стихий — лирика, эпос и философские раздумья о времени и о себе. Масштабность его мировосприятия поражала современников и еще будет поражать потомков. Горский мальчик из маленького аварского селения Цада с его каменистого плато увидел огромный мир, который поместил в свою поэзию. Он с самого раннего возраста ощущал ответственность за все, что происходит на планете, чутко реагировал на все мировые события, при этом никогда не забывая своих глубинных корней.
Ритм его сердца всегда совпадал с ритмом сердцебиения планеты, и это сделало его поэтом поистине всемирного значения. С юности воспринявший традиции Маяковского, Гамзатов с одной стороны тяготел к гражданской, трибунной поэзии, с другой был по пушкински лиричен и энциклопедичен. Горячие точки планеты стали болевыми точками его поэзии, и это было не данью времени, а внутренней потребностью поэта, любившего повторять слова великого Гейне, что трещина, расколовшая мир, проходит через сердце поэта. Но он никогда не был поэтом календарным, ибо его интерес к тому, что происходило на всей земле не был искусственным, он был неотделим от серьезного и глубокого осмысления каждого отдельного события, о котором ему доводилось писать.
Его поэтическая палитра невероятно богата. За его тонким лиризмом скрывается ранимость и незащищенность души. Он всегда естественен, всегда открыт своему читателю, которому доверяет все свои глубинные переживания. Гамзатов никогда не играет, он всегда таков, каков есть на самом деле, и эта искренность подкупает своей естественностью и непринужденностью.
В советскую эпоху Гамзатов был одним из самых ярких, самых самобытных поэтов, входя в первую десятку, а, может быть, даже и в пятерку лучших.
В стране, в которой была жесткая субординация власти, Поэту, и самому имевшему прямое отношение к этой власти, удавалось оставаться самим собой и говорить то, что другим не позволялось. Его распахнутая жизнь, его любовь к дружеским застольям были притчей во языцех. Общение со многими людьми было для него насущной необходимостью. Его жизненным девизом было: «Ни дня без строчки и ни дня без людей!», но при этом он мог сосредоточиться и работать в самых невероятных условиях.
Гамзатов, из которого очень многие хотели сделать ортодоксального коммуниста, всегда очень иронично относился к разным партийным заседаниям и конгрессам. Будучи человеком умудренным, он понимал, что плетью обуха не перешибить, но, как живой человек всегда подтрунивал над чиновничьим пафосом иных поэтов. Его нельзя была загнать в строй и выровнять в шеренгу. Он всегда бы выделялся в любом строю и в любой шеренге.
Он был масштабен во всем — в стихах, в дружбе, в любви. Он всегда чувствовал ответственность перед собственным словом, но особенно это чувство ответственности возросло в смутное время России. Он не стеснялся советоваться со многими, независимо от возраста и профессий, проверял их реакцию на свои стихи. Он был очень проницательным и наблюдательным человеком, для него не было мелочей ни в жизни, ни в творчестве — все сущее было предметом его поэзии. Склонный к самоанализу, он иногда боялся, что стихи его будут непонятыми.
Поэт умел одинаково искренне сопереживать и всей планете и одному-единственному человеку и никогда не забывал выражать соболезнования не только близким друзьям, но и просто знакомым людям, не смотря при этом на их чины и звания. Теперь, когда его не стало многие гордятся, что он звонил им каждое утро, чтобы просто расспросить о делах. И мне он тоже звонил, и тому, и другому… Он понимал, что уходит и хотел слышать наши голоса. Ему нас всех не хватало, как нам теперь не хватает его.
Он всегда трезво оценивал себя самого и свое творчество, очень взвешенно относился к своим выступлениям, часто сомневался, чувствовал своих промахи, а удачам радовался, как ребенок. И дом его, под стать ему самому, был также распахнут для всех, как и рабочий кабинет, который как бы становился продолжением его гостеприимного дома.
В 60—70 годах, когда мир жаждал поэтического слова, его поэзия совпала со временем. На его творческие вечера шли когда-то, как сегодня идут на футбол. На огромных стадионах и в необъятных Дворцах спорта яблоку негде было упасть, когда там выступал Гамзатов. Это, конечно, объяснялось прежде всего необыкновенной популярностью поэтического слова, которого тогда жаждала страна и которое не было спущено свыше.
К нему благоволила власть, его любили очень многие читатели в нашей стране и любят до сих пор. Он был блестящим и остроумным оратором. Даже его жесты были содержательнее иных речей. У него была блестящая память до самого конца. Он любил говорить, но и любил слушать жадно, вбирая всегда самое ценное и сам высоко ценил меткое словцо у других.
Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Его друзьями были Симонов, Твардовский, Кулиев, Айтматов, Кугультинов, Карим, Луконин, Евтушенко, Рождественский — писатели и поэты, казалось бы непохожие друг на друга и часто не общавшиеся с друг другом. Но всех их объединяла любовь к нему, к его редчайшему дару поэта и человека.
Расул умел соединять людей самых разных возрастов и профессий. Люди, встретившиеся впервые в его доме, потом становились друзьями. Застолье в доме Гамзатова было как бы сопровождением к его искрометному творчеству, его горской философии. Он всегда читал свои новые стихи, говорил о своих новых творческих планах. Гамзатов не терялся ни в какой ситуации, остроумие его было гениальным. Его неожиданный, чисто гамзатовский юмор, был его визитной карточкой. С ним всегда было легко, потому что, умея шутить, он сам ценил шутку и находчивость.
С ним люди разных возрастов чувствовали себя ровесниками, люди разных национальностей — земляками. Когда он читал стихи в них ощущался внутренний накал, который порой доходил до предела. Он любил подшучивать над другими, но это почти всегда было безобидно, ибо прежде всего он подшучивал над самим собой.
Для многих он был живой легендой поэзии. Он искренне любил людей, всяких — необыкновенных и самых простых и обычных. Ему все было интересно.
Гамзатов был поэтом великой державы, чем всегда гордился, никогда не предавая этого звания. Гибель державы, в которой он жил и творил, резко подточила его здоровье. Он мучительно переживал все, что происходит в стране. Человек искренний и распахнутый, он молчал несколько лет, живя почти безвыездно. Он всегда хотел противопоставить любовь ненависти и особенно в последние годы.
Перестройку он принял как долгожданную перемену, радостно по-детски, потому что очень устал от фальши, участником которой приходилось быть и ему самому. Но он был разочарован тем, что случилось потом, не желая принимать участие в этой вакханалии. Когда трещала и рассыпалась его огромная страна, он, как многим казалось, безмолвствовал, не пел хвалебные панегирики горе-реформаторам и это не понравилось тогдашней власти. Его не печатали в Москве, как, впрочем, и других больших поэтов. Но в своих последних стихах он отразил не только собственное разочарование, но и разочарование всей страны:
Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время и пространство…
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства.
Оттачивает свой имперский клюв,
Поглядывая в зеркало кривое…
Посредственность, тебя я не люблю,
Но и вражды своей не удостою.
(здесь и далее перевод с аварского М. Ахмедовой-Колюбакиной)
У многих в 90-е годы минувшего века произошел слом всего мировоззрения, но не у Гамзатова, ибо он понимал, что никакая государственная система не может быть безупречной, хотя и должна неуклонно к этому стремиться. Он был мудрец, всепонимающий, но принимающий слишком близко к сердцу боли и болезни своего времени. Вся страна меняла свои убеждения, ведь перемены происходящие в ней коснулись абсолютно всех.
Ему было трудно признаться в собственных заблуждениях, было больно прозревать изо дня в день. Но Гамзатов был беспощаден к себе в своих последних стихах. Эта беспощадность просматривается даже в названиях некоторых из них — «Суд», «Суд идет», «Покаяние», «Завещание», «Одиночество» и т. д. Он все время искал и находил в себе силы признаться в собственных ошибках. То, что некоторые его оппоненты считали приспособленчеством, было честным отношением к самому себе. Только совестливый человек способен на истинное покаяние, на сомнения, а самомнение для напыщенных болванов. Многие его стихи последних лет похожи на молитвы. Вообще вся его поэзия — это поиск Бога, недаром, он, считавший себя великим грешником (хотя кто столько делал ежедневного добра людям), надеялся на скромное местечко между адом и раем:
Он спросит: — Эпоха зашла, как звезда,
В каком из грехов ты бы ей повинился?
— Лишь в том, что политиком был иногда,
Хотя на земле я поэтом родился.
Но прежде, чем суд мою участь решит,
Всевидящим оком всю жизнь озирая,
Всевышнего я попрошу от души
Найти мне местечко меж адом и раем.
Великое чувство недовольства собой было рефреном всей его поэтической и человеческой жизни. Вслед за Эффенди Капиевым он боролся за творческую зрелость и не выпрашивал для себя никаких скидок. Он чувствовал, что смерть подступает и мужественно не сдавался ей на милость. Это его мужество поражало многих, его жизнелюбие (во что бы то ни стало!) восхищало. Он всегда много работавший, рано начал подводить итоги и вдруг понял, что не сказал самого главного и пытался успеть это наверстать. У него не было революционного романтизма, как у его друга Роберта Рождественского, как горец он изначально, на генетическом уровне, был осторожнее и дальновиднее многих своих сверстников. Но и он, как многие из его поколения, в своих первых стихах переболел юношеской революционностью и патриотичностью, чего никогда не скрывал и не стеснялся. Его пугало беспамятство идущего на смену поколения, которое отрицало литературные судьбы и творческие поиски таких, как он. Гамзатов очень тонко ощущал этот надвигающийся хаос, но не столько страшился его, сколько пытался понять.
Он был слишком мудрым и разумным для этого безумного времени. Будучи одним из самых талантливых представителей своей эпохи, он стал ее последним солдатом:
Совсем один, как доблестный солдат,
Что чудом уцелел из всей пехоты,
Из окруженья выйдя наугад,
Попал в непроходимое болото.
Совсем один, как раненый журавль,
В недобрый час отбившийся от стаи…
Уже давно на юг ему пора,
Да крылья перебитые устали.
Он искал Бога в прошлом своего народа, в его настоящем и будущем. В нынешней идеологической вакханалии, в противоборстве всевозможных религий и верований, партий и партишек, его единственной верой был родной Дагестан. И более всего на свете он боялся разувериться именно в нем:
На мой Дагестан я с тоскою гляжу,
Он скорчился, как от ожога,
До боли знакомого не нахожу,
Так много в нем стало чужого.
Не мой у него звучало, как немой. Ведь Дагестан на протяжении всей его сознательной творческой жизни был основной его религией, его паролем и отзывом. Но базис, на котором держались все его духовные ценности, рухнул, и он судорожно хватался за корень, намертво вросший в его родные горы. Горькие вопросы Поэта к новому, надвинувшемуся, как неизбежность, тысячелетию, так и остались без ответа. Эпоха отпечаталась в его творчестве, как след железной подковы на камне.
Но кто сказал, что другая эпоха будет лучше?..
Он быстро избавился от иллюзий, гораздо быстрее, чем некоторые поэты-шестидесятники: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, вслед за ним воспевавшие коммунистические идеалы и вслед за ним разочаровавшиеся в них. Но разочаровавшись, он не смеялся над своими заблуждениями, не юродствовал, не проклинал прошлое, которое он любил таким, как есть. Недаром строчки «суди меня по кодексу любви» были самыми его любимыми, ибо все, что он делал, он измерял только любовью. И юношеские заблуждения тоже. Он не стал судьей и разоблачителем ни своего прошлого, ни настоящего, он судил только себя за то, что был слишком легковерным, и часто плыл по течению времени:
Я разным был, как время было разным –
Как угол, острым, гладким, как овал…
И все же никогда холодный разум
Огня души моей не затмевал.
и дальше:
Ты прости меня, время безумное,
Что и мне не хватало ума…
За меня чьи-то головы думали,
Мои строчки прессуя в тома.
И шайтанская сила незримая
По бумаге водила порой
Мою руку неисповедимую,
Искривляя прямое перо.
Порой о своих заблуждениях он писал с издевкой, порой с горечью, но ничего и никогда не скрывал. Нет, Гамзатов не просил для себя смягчающих приговоров, ибо знал, что как Поэт он в ответе не только за собственные ошибки, но и за ошибки тех, кому он поверил.
Его последние стихи пронизаны болью, которую он не может превозмочь. Его прозрение стало его долгим прощанием со своей страной, со своими читателями, с Патимат, которая ушла внезапно и этим еще более обнажила нерв его одиночества. Гамзатов был однолюбом, рыцарем, патиматиком. При всей его кажущейся влюбчивости он был по-настоящему влюблен только в свою Патимат. Он был предан ей одной, потому и внезапную потерю ее пережил так тяжело:
И любовь моя с клином усталым
Улетела уже навсегда,
В глубине мирозданья пропала,
Как упавшая с неба звезда.
Казалось, что все чувства его обострились. Его мощный талант не боялся тематических повторов, ибо он знал — и его прозрение, и даже его повторы индивидуальны. Он сомневался во многих своих строках. Но его последние стихи по своему воздействию на читателей (а это видно по реакции людей на многих встречах), обладают мощной, ни с чем не сравнимой эмоциональной энергетикой. Его исповедальность подкупает и обескураживает. Его новые журавли рыдают навзрыд. В своих последних стихах он как бы избавляется от всего наносного, ненужного. Его строки, словно исторгаются из самых заповедных глубин его души.
В нем в последние годы боролась надежда с безнадежностью. Но Поэт не цеплялся за жизнь, он просто не хотел ее терять, как любимую женщину, любимую до самозабвения. И в этом была какая-то трагичность. Его последняя книга, которую еще не увидел читатель, может быть, будет самой глубокой, самой пронзительной и самой беспощадной по силе поэтического откровения. Он все время хотел написать самое главное стихотворение в своей жизни, и ему казалось, что это должно быть последнее стихотворение. Его вообще очень интересовали последние стихи тех поэтов, которых он любил, потому что он считал, что именно в них закодировано нечто самое-самое. Он замечательно читал свои стихи, и это не было актерством, просто они шли из глубины его пламенной натуры, страстно и факельно. Вообще образ факела был любимым его образом, ведь он и сам был факелом, рассеивающим тьму.
Критики его поэзии часто обвиняют его в предательстве своих убеждений. Но это не так. Расул менялся вместе со временем, которое меняло его отношение к жизни и творчеству, но в главном он всегда оставался верен себе:
О, время, — ты — флюгер… По воле ветров
На запад восток променяешь мгновенно.
Но век мой прошел, и хоть был он суров,
Моей никогда не увидит измены.
Он не вымарывал из своего творчества страниц, даже если эти страницы были черновыми.
Его «Журавли» стали одной из самых Великих песен ХХ века. Эта песня преклоняется перед памятью всех погибших и предостерегает человечество от новых войн. А тема неоплатного долга в его журавлях звучит и в новых его стихотворениях:
Когда уйду от вас дорогой дальней
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне.
Горло перехватывает от этих щемящих интонаций. Порой он сам сомневался в своем творчестве, но теперь уже в нем никто не усомнится. Он раньше многих понял лживость политической системы, в которой ему довелось жить, но среди этой всеобщей лживости он отыскал свои спасительные островки — отец и мать, любовь и дружба, семья и дети — по которым он шел к истине. Только вечные ценности хранил он и защищал, только их боялся утратить. Его дар предвиденья поражает. Ведь задолго до Бесланской трагедии он написал воистину пророческое стихотворение «Берегите детей»:
Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути,
Каждый миг: «Берегите детей!».
Всех, творящих намазы, прошу об одном —
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»
Он любил делиться своими творческими планами и замыслами, часто советовался, не обращая внимания на возраст собеседника. Умный совет он всегда ценил, над глупостью благодушно подтрунивал. Кто-то считал его правительственным поэтом. Но он никогда не фальшивил: ни тогда, когда в годы войны писал о Сталине, ни тогда, когда молчал о Ельцине… Он свято верил только в Родину и доверял только ей, а когда разуверился, с головой ушел в историю, стал писать аварские сказания, легенды, притчи. Он не был ни романтиком, ни идеалистом. Ярлык придворного поэта, который пытались навесить на него, никак не соотносился с его образом. Он метался вместе со страной, пытаясь угадать ее путь, и очень много работал. Это был уже другой Гамзатов — трагичный, философский. Он еще много успел написать на родном аварском языке. Но наследие это пока недоступно широкому читателю. Из вновь написанного он многое хотел переделать, переосмыслить, дописать. Не случилось. Всевышний дал ему всего месяц, чтобы проститься с жизнью, которую он так любил, с друзьями, с коллегами, с семьей и с Москвой, где он прожил лучшие свои годы. Он не противопоставлял себя новому времени, но и не хотел вписываться в него. Он шел своим путем, который был невероятно труден. Он не отрекался от ранних стихов, просто пытался их переосмыслить, переосмыслить самого себя, свое тогдашнее мировоззрение.
В начале девяностых он оказался, как и вся литература на обочине, без гонораров с нищенской пенсией и мизерной зарплатой. Именно поэтому он ушел в себя. И в то же время рьяно защищал писательские интересы. Он всегда считал, что писательство — это цвет нации, и власть, которая об этом забывает, обречена:
Словно шерстью чёсаной, туманом
Затянуло призрачную даль –
Наступило время шарлатанов
И заполонило магистраль.
Слух мой режет пар колесных скрежет,
И вагоны старые скрипят,
И на полустанках здесь все реже
Фонари сигнальные горят.
Что же ждет меня за поворотом,
Ожидает что мою страну?..
Время, вот и стало ты банкротом,
Снова у безвременья в плену.
Сколько себя помню (примерно с трехлетнего возраста, когда я впервые членораздельно смог произнести его имя и фамилию, хотя и неправильно: — Расул Газматов), он всегда был центром писательской вселенной Дагестана, о нем говорили все и всюду, его цитировали, читали, ругали и хвалили, но к нему никогда не были равнодушны. Последние семь лет его жизни мне посчастливилось много работать с ним, быть его помощником и собеседником. Он любил шутить: «Не знаю, как я тебе, а ты мне очень нравишься». Как бы я хотел сказать ему то же самое сейчас. Увы…
Он любил молодых, потому что и сам до конца был молод. У него никогда не было менторского тона, он не поучал, а жадно тянулся к новому, незнакомому. Меня всегда в нем это поражало. Когда я принес ему его восьмитомник, только что составленный и записанный на маленький лазерный диск, он, как ребенок, долго удивлялся, что на этой серебристой пластиночке уместился труд всей его жизни. Это его восхищало и пугало одновременно.
Он был так важен, так необходим в этой жизни. А без него мир стал иным, он сузился, как шагреневая кожа.
Расул Гамзатов покоится там, где хотел — на склоне Тарки-Тау, видя весь город, который он любил, и море, которое воспел, как Пушкин. К нему не зарастает тропа и он, как и прежде, не одинок.
Мурад АХМЕДОВ